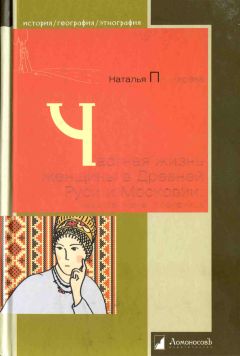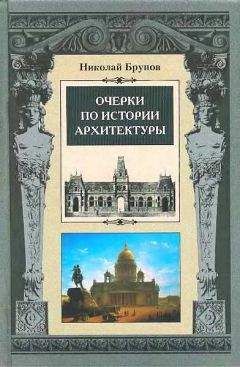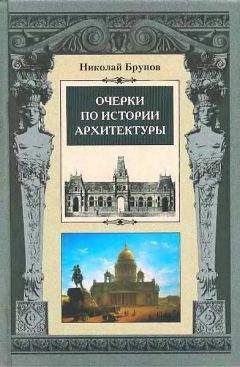Житийная повесть о Никандре содержит и другие примеры общения святого с окружающим населением, и всякий раз это непосредственные контакты: или беседа «один на один», как с крестьянином Симеоном, или с несколькими крестьянами сразу. Зарисовки всегда точны, реалии крестьянского быта представлены с таким знанием их, которое могло иметь источник только в непосредственном опыте общения. Они точны, а по тону любовны, чему не противоречит учительный элемент; цель зарисовок осудить отрицательные явления и дать нравственное напутствие. За чтением этих богатых реалиями крестьянской жизни эпизодов в повести о Никандре историку невозможно отделаться от ассоциации с миниатюрами большого лицевого свода второй половины XVI в. Эти житийные эпизоды — словно обретшие голоса миниатюры, отразившие, как известно, и труд, и быт крестьян. Памятники литературные и памятники изобразительного искусства в данном случае, как и в большинстве других, в ладу между собой. Магистральные линии культурного процесса совпадают, свидетельствуя об его едино- направленности.
Вот эпизод о происшествии, случившемся с Никандром на пути в облюбованную им пустынь: «Шествуя путем, поистиже его (Никандра. — А. К.) ночь, и у некоего крестьянина впросився на нощь опочинути в понеделник сырная недели». Но «беж в дому том пир творяху и даяху ему ясти и пити, онже не хотяще вкусити ничтож». Хозяева обиделись и заподозрили оставшегося на ночлег путника в дурных намерениях: «Сей человек зло мыслит на нас, не хощет у нас ясти и пити». Отчасти они и были правы: путник нарушил обычай гостеприимства, а о благочестии его им известно не было. Тут вспомнилось хозяину дома, что недавно у соседа его «разбойницы разграбиша село и сожгоша люди». Никандра приняли за разбойника, готовившегося осуществить злой умысел, и стали нещадно бить. Благочестие не смягчало боли. Никандр кричал, как и всякий другой человек, оказавшийся бы в его положении. Спасло то, что «услышан бысть вопль той от прочих боголюбивых человек», — в этом сочинитель видит милость Богородицы, — и они образумили избивавших: «Сей человек ничтож вам зла сотворил, за кое дело его бьете неповинна». Никандра накормили, дали переночевать, после чего он продолжал свой путь, не затаив злобы, но с благодарностью крестьянам, давшим ему ночлег «Бога ради»[159].
Живая сцена, живой слог, показана обстановка, в которой нашло место такое явление, как разбой, не столь редкое и в крестьянском быту.
Рисует конкретную обстановку деревенской жизни и эпизод из посмертных чудес Никандра. Был некий увечный («клосный») старец монах Исайя. Церковный дьячок по имени Андрей, о котором сообщается, что родился он в пределах Порховских «у святаго Николы чюдотворца на Тишинки», что лет ему было 23, что пожил он год и семь дней (дни и те сосчитаны и названы) «с терпением у преподобнаго», — этот Андрей обокрал Исайю. Да как еще: похитил «мантию и кукол и вся чернеческая одеяния, иконы и книги», с чем и «побеже ис пустыни». Исайя, в отличие, скажем, от крестьянина Симеона, горевал не о похищенном, а о воре и, припав к гробнице Никандра, просил простить и наставить на путь истинный обидчика. Но «пособием преподобнаго клосный и безногой старец» устремился за вором. Тот успел еще «до обеда» убежать на 12 поприщ и пришел «в пусто место и лесно, нарицаемое Подоговрие», где обнаружил «кошеное сено». В лесной пустоши вору привиделся и услышался обокраденный старец: «Аще ли не веси, не можеши от мене избежати!» Вор, объятый страхом, побежал в лес. «В третий час нощи» к месту, куда бежал вор, добрался и сам «клосный старец», едва живой от усталости. Перекрестился, помолился, а затем «влезе в сено и почи». Три часа спустя сюда же пришел обезумевший вор. К тревоге «клосного старца» он расположился «близ сена». Старец «возложи надежду на святаго», и вор «лежаша близ сена и не могий двигнутися». Между тем настала непогода, «забила» обратный путь, и опять «оскорбел» пострадавший старец: «яко близ бо погибели». Все окончилось наилучшим образом и для старца, и для вора, и к вящей славе святого: «Не по мнозе ж времяни приехав из села, нарицаемаго Згорок два мужие: Ларион да Онтип, родные братия, взяти скоту сена на потребу»[160]. Они спасли старца, а вора изгнали. Вор раскаялся, со временем постригся и даже получил «чин дьяконский»[161]. Жанровая зарисовка, подчиненная назидательной цели, но подкупающая простодушием, знанием местности, ее особенностей, динамичным изложением сюжета. В зарисовке чувствуется рука, навыкшая не только к перу, но и труду. Сочинитель знал тех, к кому обращал свое сочинение. Краткое по объему, оно, по–видимому, предназначалось для церковного чтения в день святого, на что указал еще Серебрянский, сославшись на начальные слова жития: «Братие и отцы о Христе! молю вы, почитающии ж сего житие старца Никандра…«[162] и т. д. Для местных слушателей и читателей этой житийной повести отлично были знакомы наименования упоминаемых в ней населенных пунктов, может быть, и личные имена, встречающиеся по ходу изложения, если не имена крестьян, то имена старца Исайи, дьякона Андрея и во всяком случае имя «князя Кострова». Сочинение прославляло чудотворца, но преобладают в нем учительные мотивы, разъясняемые на конкретных примерах, близких умам и сердцам слушателей и читателей и доступных по манере изложения.
Нам предстоит еще вернуться к этой житийной повести, но уже в окружении других произведений того же жанра, что покажет, не умаляя оригинальности, принадлежность ее по ряду критериев широкому кругу житийных повестей.
Для характеристики представлений средневекового крестьянина, наделявшего ими и своих святых, заслуживает внимания материал об отношении к животному миру, содержащийся в житиях. Между человеком, с одной стороны, и животными — с другой, не оказывается столь значительной разницы, которая современному сознанию представляется сама собой разумеющейся. Животные наделяются сознанием и чувством, вменяемостью поступков и даже проявлениями греховности и благочестия. Это не наивно, если исходить из принципа историчности развития общественного сознания. В этом выразилось чувство соприродности труженика земли, сознание его собственной включенности в мир природы. Крестьянин наделял своих святых таким же чувством и отношением: «вещи и люди на равной ноге». В мире животных, о котором мы узнаем из житийных повестей, чаще всего фигурируют конь и медведь. Но конь, как правило, соотнесен с его функциями в хозяйстве, посему персонажем, уводящим в языческую старину, пожалуй, остается только медведь. Правда, и образ медведя порой раскрывается в традиции христианских представлений.
Приведем рассказ из цитировавшегося уже жития Никандра — рассказ занимательный, живой: «И бысть неколи стоящу ему на молитве, и прииде медведь к келии святаго и нача о келею правитися, келия же дрожаше. Преподобный же Никандра перекрестив оконца и посмотре во едино оконце, и виде велика зверя стояща, и огради его крестным знамением и дунув на него, зверь же паде на землю, яко мертв»· Крестное знамение на «оконца» и на зверя было действом охранительным, преграждающим доступ «злому (злым) духу», а дальше действие «наступательное»: дунул на зверя святой духом, что, несомненно, сродни был Святому Духу, в результате чего зверь пал на землю, «яко мертв». Святой не оставил зверя в обморочном состоянии, подошел к нему. Зверь восстал и припал к ногам святого: «он же благослови его и дуну и отпусти его во свои путь»[163].
«Благочестивому» медведю из жития Никандра противостоит «грешный» медведь из жития северорусского подвижника Трифона: «Преподобному Трифону в келии своей устроившу квашню ко испечению хлебов и некая ради потребы изыди из келии; тоща в келию прииде великий медведь, опроверже квашню и начат уготованное тесто ясти». Конечно, медведь проявил себя в данном случае более «грешным», чем никанд- ровский медведь. Он не просто сотрясал жилище святого, но покусился на его квашню, чем и показал себя недостойным благословения «Святый же прииде к келии и, видя зверя, глагола ему: Исус Христос, Сын Божий, Бог мой повелевает ти: изыди из келии и стань семо кроток. Зверь же изыде, пред ногами преподобнаго ста недвижим». Тут бы и отпустить медведя с миром, как сделал Никандр. Трифон поступил с медведем, как с грешником: «Преподобный же вся велие древо, бияше зверя, рече: во имя Исус Христово даю ти многи раны, яко грешному. И наказав завеща зверю близ келии и лавры впред не пакостити и отела в пустыню»[164].
В житийной повести о Сергии Радонежском медведь изображается как частый гость святого, нетерпеливо, но упрямо ожидающий, когда тот положит ему на пень кусок хлеба.
5–463
Медведь в житийной литературе напоминает популярнейший в русских народных сказках образ этого животного. Сюжетом первой из записанных в 1525—1526 гг. русских народных сказок является помощь медведицы поселянину, оказавшемуся в беде. Различие сказочного и житийного жанров делает еще более выразительными моменты их сходства. Добавим, что и образ медведя в композиции Андрея Рублева «Страшный суд» также не лишен сказочных черт, будучи вместе с тем поразительно правдоподобным.